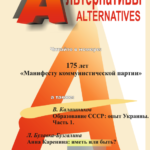Потребление достаточно подробно представлено в научной литературе — философской, культурологической, социологической, психологической, экономической. Однако его описывают в основном в комплексном виде, без обращения внимания к частным аспектам потребительства. Автор настоящей статьи подходит к изучению данного феномена в строго ограниченном контексте — образовательной деятельности.
Ключевые слова: общество потребления, потребности, образование, культура чтения, проблема знания.
В предыдущих статьях, опубликованных в «Вопросах культурологии»[1], мы рассмотрели сущность потребительства как знакового феномена. Потребительство — система общественного одурманивания, основанная прежде всего на знаках, обмен которыми бесконечно нарастает. Находясь в единой плоскости с явлением моды, оно, включая своих адептов в бессмысленный символический круговорот, унифицирует их индивидуальные качества. Потребительские тенденции ориентированы в первую очередь не на удовлетворение какой-то реальной потребности, а на возвышение социального статуса консьюмера в глазах окружающих посредством обладания дорогими гаджетами. Культура потребления, заставляющая субъекта выбирать «иметь» вместо «быть» в качестве основополагающего принципа жизнеустройства, — благодатная почва для создания фиктивных и полуфиктивных потребностей. Кроме того, потребительский культ с присущим ему расточительством конституирует идеолого-поведенческую основу наступления экологической катастрофы, вероятность которой повышается вместе с повышением уровня траты ресурсов.
Индустрия развлечений приобщает интерес массы не к актуальным вещам современности, не к злободневным проблемам, а, наоборот, к абсолютно ненужной информации, внимание к которой не требует никакого напряжения от реципиента и заглушает в нем голос критического осмыслителя действительности. Если раньше наш народ квалифицировался как «самый читающий», то теперь культура чтения освободила место для глупых дискотек, пьянства и наркотиков. Даже сама аудиовизуальная интернет-культура сокращает чтение за счет увеличения смотрения. Если символами «галактики Гуттенберга» были печатное слово и текст, то символами нынешней эпохи стали звук и видео. То, что следует за эпохой книгопечатания, хотя и знаменует собой значительный прорыв в области коммуникативистики, в то же время редуцирует способность к вниманию и сосредоточению (книга больше, чем телевидение, требует наличия этих способностей) и снижает способность к интеллектуальной мобилизации и пониманию, так как дает человеку привыкнуть к легкому, не требующему волевых усилий способу восприятия информации. Само по себе упрощение восприятия информации следует считать благом, но негатив этой стороны прогресса проявляется в том, что сознание, интеллект и воля перестают напрягаться. По-настоящему адекватно воспринимать информацию способен тот, кто имеет «книжный» опыт, развивающий волю, интеллект, абстрактнологическое мышление, воображение и т. д. При столкновении с когнитивным барьером потребительское медиасознание впадает в ступор или просто бросается в поиски готового рецепта, вместо того чтобы внимательно и глубоко проанализировать сложившуюся ситуацию.
Инструментально-технический тип рациональности основан на принципе полезности, который вытесняет «неэффективную и невыгодную» духовность. В условиях господства данного типа рациональности и появления потребительского медиамышления наблюдается упадок культуры чтения, и ценность образования также неуклонно падает. Студентам уже неинтересны базовые теоретические дисциплины (им больше интересна оценка на экзамене). Если чему-то и отдается предпочтение, то в основном «практичным» предметам, которые формируют практическую базу, необходимую для работы. Предпочтительное знание — это прагматичное, инструментальное и ведущее к выгодной работе самым коротким путем. Особенность такого интереса укладывается в формулу «главное — научиться зарабатывать деньги, а все остальное побоку». Недооценка базовых дисциплин, по нашему мнению, указывает на околопотребительский характер, поскольку редуцирует знание как таковое, а также пренебрегает фактом того, что данные дисциплины не только «забивают головы теоретичной, а потому бесполезной информацией», но расширяют профессиональный горизонт, повышают интеллектуальный уровень и развивают мыслительные способности. Сама общественная структура, основанная на рынке, можно сказать, диктует правила, которые выводят на периферию широту знаний и кругозора, а на передний план ставят узкую практичную специализацию. Соответственно, и научные исследования должны обязательно отвечать коммерческой выгоде, то есть быть нужными сугубо в инструментальном смысле. Формирование спроса только на коммерчески целесообразные навыки и умения создает соответствующий тип образования, в котором собственно образованию находится мало места по сравнению с обучением (вместо принципа развития реализуется принцип конкурентоспособности). Исследования и дисциплины, остающиеся общественно значимыми, но имеющие минимальную коммерческую ценность, вытесняются. При этом система массмедиа упорно внушает мысль о неправомерности участия старшего поколения в воспитании молодежи, что приводит к разрыву межпоколенческих связей и дегуманизации образования.
Итак, университет — это не просто место сборки узкого специалиста с востребованным умением и не востребованным мышлением, но и место формирования мыслящего человека, а также источник сопротивления догматизму власти. Но он таковым перестает быть с коммерциализацией образования и ограничениями академической свободы. Именно студент, компетентный только в строгих рамках и не разбирающийся в смежных науках, выгоден как диктаторским правительствам, так и корпорациям. Не имея возможности работать по смежным профессиям и не обладая достаточным запасом знаний, он становится зависимым от работодателя. В силу профессиональной и когнитивной ограниченности он боится отстаивать свои права из страха потерять работу, а также не понимает сути данного механизма. Непонимание же не способно привести к недовольству.
Потребитель образовательных услуг в основном стремится получить не качественное образование, а гарантию того, что диплом ему выдадут. Поэтому поступает не туда, где много задают, а туда, где требуют минимум. Легкость обучения — один из самых значимых факторов современного студенчества. Соответственно, многие вузы в своей деятельности ориентируются не на качество образовательных услуг и уровень требований, а на ценности потребителя. Когда говорят, что конкуренция между вузами способствует повышению качества образования, кривят душой. Вузы, конкурируя друг с другом, гонятся за клиентом и, соответственно, желая иметь в своих стенах большее количество студентов, предлагают в качестве рекламы не то, что укладывается в рамки качественного образования, а то, на что ориентированы эти потенциальные студенты. Пожалуй, идеальным вариантом рекламы являлся бы не лозунг «Мы даем качественное образование!», а лозунг «У нас не отчисляют!». Известна практика в основном негосударственных вузов, которая заключается в принципиальном неотчислении студентов, оплачивающих обучение; студент может совсем не учиться, но обязан платить за «учебу» и рискует быть отчисленным только в результате неуплаты. А потом на рынок труда выходят специалисты соответствующего уровня. Сейчас они неконкурентоспособны по сравнению с теми, кто закончил «нормальные» вузы, но в будущем, скорее всего, они станут вполне конкурентоспособными, так как сравнивать их станет не с кем. Соответственно, провозглашающийся принцип экономической конкурентоспособности, сместивший принцип личностного развития, образование будущего вполне сможет реализовывать.
Таким образом, под неуклонным влиянием глобализационных процессов и потребительской культуры наша система образования утрачивает свою автономность и качество и превращается в сегмент рынка. В рыночную услугу, которая предлагает себя не только в том виде, в каком должна быть, но и в абсолютно уродском, привлекающем клиента, не желающего учиться. Между тем настоящее образование должно быть дискомфортным, оно должно требовать, напрягать и мобилизовать, а не расслаблять. Диплом — не то, что покупается в соответствии с идеей рыночной экономики, а то, что заслуживается упорным трудом. Объем продаж не указывает на высокое качество продаваемого товара или услуги. Эффективность и конкурентоспособность являются элементами рыночной идеологии, которые не должны распространяться на сферу образования, так как они выхолащивают ее, лишают как воспитательного, так и собственно образовательного духа. Этот процесс приводит к неумолимой деградации интеллектуальных и нравственных общественных сил. Недаром И. Смирнов назвал обучение на коммерческой основе механизмом, «посредством которого студент, не имеющий знаний и способностей, получает официальную бумагу (с печатью) о том, что знания и способности у него имеются. Точно такую же, как у однокурсников, которые по-настоящему учились»[2].
Раньше концепт «высшее образование» был единым и в силу этого единства не вызывал сомнений. Сейчас же высшее образование высшему образованию рознь. Два обладателя вузовских дипломов могут как небо и земля отличаться друг от друга уровнем своей культуры, компетентности и интеллектуального развития. Поэтому высшее образование, окунувшись в потребительскую идеологию, стало дискредитировать само себя. Превращаясь в услугу, оно не предоставляет необходимой широты кругозора и глубины знаний, что, в свою очередь, едва ли может актуализировать в человеке здоровый и зрелый критицизм. Выпускниками учебных заведений должны быть люди, обладающие прежде всего хорошо отточенным методологическим мышлением, а не факту- альными знаниями, которые быстро устаревают (особенно в эпоху стремительного роста знания) и едва ли создают плацдарм для независимости мышления. Сегодняшняя информационная эпоха характеризуется не только лихорадочным ростом знания, но и быстрым устареванием прошлых истин. Пока студент обучается по одной технологии и парадигме, к моменту окончания вуза эта парадигма изнашивается, и ей на смену приходит новая система знаний — более совершенная и адаптированная к реалиям текущего дня. Выпускник оказывается неконкурентоспособным. И некоторые догматичные вузовские дисциплины, читаемые в течение нескольких десятков лет в первозданном виде, без нововведений, также неконкурентоспособны и отдалены от реальности. Встречаются и люди, которые имеют достаточно обширные знания, но у них отсутствует видение того, как эти знания применить, что говорит о недостатке соразмерности их компетентности и социальной адекватности. Так что в сегодняшнем образовании мы находим такие взаимосвязанные проблемы, как редукция знания, устаревание знания и его излишняя фактологичность в ущерб методологичности.
Роль интеллектуала сегодня аморфна не только потому, что, по сути, вышла из почета, но и потому, что в век постмодернизма все являются интеллектуалами. Если раньше — например, в эпоху Нового времени — таким высоким словом можно было назвать человека, условно говоря, прочитавшего несколько сотен книг — единственных существовавших тогда книг, — то теперь не хватит жизни на то, чтобы проштудировать всю имеющуюся литературу хотя бы по каким-то узким вопросам. Но это не означает, что образованность человека измеряется сугубо количественными показателями. Равно как это не указывает на необходимость поставить крест на проблеме интеллектуального (и духовно-личностного, так как культура и нравственность есть неотъемлемые аспекты человеческой образованности) развития человека. Имеет смысл в образовательной сфере создавать плацдарм для усвоения студентами не просто знаний, а знания о знаниях — того самого методологического базиса, выраженного в принципе «учись учиться» (или, в более актуальном для современности варианте, «учись дифференцировать знание и псевдознание»). Сегодня качество образования зависит не от объема знаний, а от способности ориентироваться в глобальном информационном пространстве, от способности отделять зерна от плевел, от способности не тонуть в потоках информации и псевдоинформации, от способности целостно и систематично, а не мозаично фрагментарно осмыслять действительность. Не стоит забывать, с одной стороны, о ценности универсальных, широкомасштабных знаний, а с другой — об узкопрофессиональной квалификации. Перекос же в одну из сторон, при этом игнорирующий упомянутый выше методологический базис, рождает интеллектуально кастрированного субъекта. Без фундаментальных знаний он просто функциональный винтик, не отличающийся мыслительной гибкостью, самостоятельностью, творческим мышлением и кругозором; специалист узкого профиля. Без узкой квалификации он теоретик, распыляющийся во все стороны и сферы, много знающий, но почти ничего не умеющий. Принципы фундаментальности и практической направленности должны быть гармонично переплетены. Именно человека, вобравшего в себя таковую многосторонность, следует называть культурным, интеллектуально развитым, нравственным, творческим и компетентным.
Проблема знания, его накопления и прироста — далеко не самая актуальная для современности. Она была актуальна тогда, когда знаний было мало. Сейчас же, в век глобального знания (и, соответственно, глобального псевдознания, мифа), в большей степени актуализируется проблема понимания. Понимание — это надстройка над знанием, более высокий уровень, который достигается в первую очередь не путем простого накопления и прироста знаний, а путем методологического осмысления действительности, зачаток которого мы видим в декартовском императиве сомнения. И если Ф. Бэкон отождествлял знание с силой, то сегодня более справедливо отождествлять понимание с силой.
Оценивая качество современного высшего образования, несложно прийти к выводу о его сомнительности. Что-то уж очень много среди выпускников узколобых «схоластов», видя которых трудно поверить в наличие у них диплома о высшем образовании. И «заслуга» в этом принадлежит не только некоторым преподавателям, слабо разбирающимся в своих предметах, и не только некоторым студентам, откровенно не желающим учиться, но и тем приближенным к власти фигурам, которые создают государственные образовательные стандарты, чем определяют содержание, методологию и вообще специфику вузовского обучения. Вузов много, но количество не всегда перерастает в качество. Если переименовать какой-нибудь колледж в университет (как милицию — в полицию), университетом он от этого не станет. Конвейерное производство выпускников путем упрощения требований и исключения из вузов только за неоплаченные семестры создаст много дипломированных людей, и некоторые из них, возможно, станут представителями среднего класса, а вот интеллигенцией станут единицы. Да и кандидатов с докторами сейчас пруд пруди, но далеко не каждый из них оправдывает свою степень. Можно сказать, что при расширении дипломирования происходит инфляция квалификаций; настоящая ценность дипломов падает. Образование дорожает, а отдача от него снижается. Вместе с тем образование становится более доступным не в финансовом, а в интеллектуальном смысле, поскольку смягчение требований приводит к редукции самого образования. Оно перестает рождать интеллигенцию.
Интеллигенция — не та прослойка, каждый субъект которой обладает дипломом вуза, но та, которой не чужд высокий интеллект и широкий кругозор, свободомыслие, честность, чувство ответственности за общественный организм, смелость в высказывании собственного мнения, преданность гуманистическим идеалам, следование долгу, чувство справедливости. Интеллигент отличается высоким интеллектом, сопряженным с духовно-нравственным началом. Среди атрибутивных характеристик интеллигенции нет места таким потребительским качествам, как конформизм, мещанство и лицемерие. «.. .Русская интеллигенция всегда стремилась к абсолютной справедливости, а достичь ее на путях конформизма, увы, невозможно»[3].
Именно критерии нравственности и гражданской активности сокращают количественно ту социальную прослойку, которую именуем интеллигенцией. Интеллигенция не синонимична среднему классу, так как классовость определяется в первую очередь по материальному критерию. Интеллигент — более широкое понятие, чем интеллектуал, характеристики которого сводятся в основном к наличию высшего образования и широкого кругозора. Человек вполне может сочетать образованность и ученость с бескультурьем, хамством, аморализмом, мещанством, стремлением добиться карьеры любой ценой и с другими подобными «качествами»; его едва ли следует считать интеллигентным. Но при этом он может быть интеллектуалом — одомашненным и прирученным борцом за права корпоративной элиты, умным и послушным помощником, готовым подписаться под чем угодно. Его интеллект может использоваться как во благо, так и во вред — в зависимости от направления его воли или воли того, кому он служит. Сообщество таких людей скорее заслуживает название «интеллигентщина». (Но эти максимы не означают, что интеллектуалам, в отличие от интеллигентов, чужды моральные, нравственные и этические качества.)
+ + +
Культура, основным содержанием которой является проедание ресурсов, а идеологами которой выступают К. Собчак, Тимати и т. д., обречена на упадок. Что бы ни говорили в качестве критики в адрес советского периода, необходимо принять к сведению то, что тогда уровень образованности людей был значительно выше, само образование и нравственные ценности являлись на самом деле ценностями, а не периферийными явлениями, которыми они представляются нам сейчас.
[1] Ильин А.Н. Потребление и опасности, связанные с ним // Вопросы культурологии. —2011. — № 4. — С. 86-91; Ильин А. Н. Фиктивность, знаковость и символизм культуры потребления // Вопросы культурологии. — 2010. — № 10. — С. 41-47.
[2] Смирнов И. Реформаторий. Толковый словарь по образовательным реформам // Научно-просветительский журнал «Скепсис». — 2005. —№3/4, 2005. URL: http://scepsis.ru/library/id_11.html
[3] Савчук В. Инакомыслие или конформизм: нравственный выбор интеллигенции в России // Логос. — 2005. — № 6 (51). — С. 242.
Ильин А.Н. Культура потребления и образование // Вопросы культурологии №10, 2011. С. 58-62.